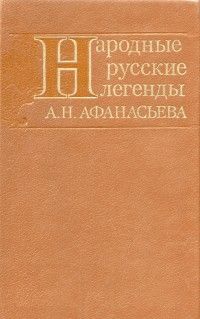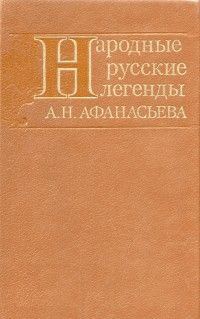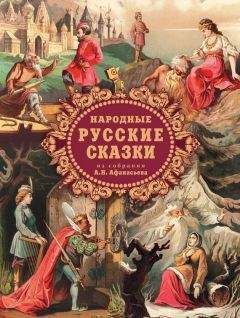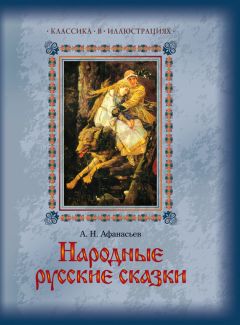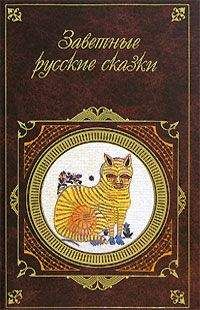своих людей – Самона да Андрюху (они-то и сдули эти деньги у барина). Вот они приехали к бабке и почти силом её посадили в карету и повезли к барину. Дорогой бабушка начала тосковать, охать и вздыхать, и гуторит про себя: «Охо-хо-хо! Кабы не мамон да не брюхо, где бы этому делу сбыться, чтобы мне ворожейкой быть и ехать в карете к боярину для того, чтобы он меня запрятал туда, куда ворон и костей моих не занёс. Ох, плохо дело!»
Самон это подслухал, да и кажет:
– Чуешь, Андрюха! Старуха о сю пору что-то про нас бормочет. Кажись, плохо дело будет!
Андрюха ему гуторит:
– Что ты так сробел, может это так тебе со страстей почудилось.
А Самон ему бает:
– Послухай-ка сам, вот она опять что-то гуторит.
А старуху самоё берёт страх и горе: вот она, посидя немного, опять своё твердит: «Охо-хо-хо! Коли б не мамон да не брюхо, где бы этакой оказии сбыться!» Вот ребята давай прислухивать, что старуха бормочет: а она, посидя немного, опять за своё примется: «Мамон да брюхо» – и бесперечь со страстей всё своё несёт. Как ребята это услыхали, и оторопь сильно взяла: что делать? да и загуторили промеж себя, что надоть бабушку упросить как можно, чтобы она не болтнула этого боярину, а то старая всё твердит: «Кабы не Самон да не Андрюха, где бы этакой оказии сбыться?» Они, окаянные, со страстей-то не разобрали, что старуха гуторит о мамоне да о брюхе, а не Самоне да Андрюхе.
Как меж собой у них сказано, так было и сделано. Вот они и начали просить старуху:
– Бабушка, желанная ты наша, кормилица, не погуби нас, а заставь вечно за тя бога молить. Ну что тебе будет прибыли погубить нас и оговорить перед боярином? Лучше не сказывай на нас, а так как-нибудь; а мы-то уж тебе за это что хошь заплатим.
А бабушка не дура, себе на уме, чует эти слова, схаменулась, и страсть с неё вся соскочила – как рукой сняло, да и спрашивает их:
– Где же вы, детушки, всё это дели?
Они гуторят уж с плачем:
– Что, родимая, чай нас сам окаянный соблазнил, что грех такой сделали.
Бабушка опять спрашивает:
– Да где же они?
Вот они и гуторят:
– Да куда ж их окромя было спрятать-то, как не на мельницу под гать, покуля пройдёт такая непогодь.
Вот они, сгуторившись дорогою как надоть, и приехали в дом к боярину. Боярин как увидал, что привезли старуху, сделался и невесть как рад, взял её под руки к себе в хоромы, начал потчевать всякими этакими питьями и яствами, чего её душеньке угодно, и, напотчевавши её досыта, давай просить её, чтоб она ему про деньги поворожила. А бабушка себе на уме своё несёт, что мочи-то нет и насилу ходит; а боярин и кажет:
– Экая ты, бабушка! Ты будь у меня как в своём дому, хошь – сядь, а хошь – ляжь, если уж тебе невмоготу сидеть-то, да только поворожи, об чем я тя прошу, и если узнаешь, кто взял мои деньги, да ещё я найду свою пропажу, то не только угощу, а ещё и награжу тя чем душеньке твоей угодно, как следует, без всякой обиды.
Вот старуха, переминаясь, как бы её и в самом деле лихая болесть изнимает, взяла карты, разложила как следует и долго на них смотрела, всё пришептывая что-то губами. Посмотревши, и гуторит:
– Пропажа твоя на мельнице под гатью лежит.
Боярин как только услыхал это, что сказала старуха, сейчас и послал Самона да Андрюху, чтобы это всё отыскать и к нему принесть: он не знал, что это всё они сами спроворили. Вот те нашли, отыскали и принесли к боярину; а боярин-то, глядя на свои деньги, так обрадовался, что и считать их не стал, а дал старухе сейчас сто рублей и ещё кое-чего оченно довольно, да ещё и напредки обещался её не оставлять за такую услугу; потом, угостя её хорошенько, отослал опять в карете домой, наградя ещё на дорогу кое-чем по домашнему. Доро́гой Самон и Андрюха благодарили старуху, что она хошь знала про их дела, да боярину не сказала, и дали ей ещё денег.
С этих пор наша старуха ещё боле прославилась и стала жить себе – не тужить, и не только что хлебушка стало у неё вволю, но и всякого прочего, и всего невпроед, да и скотинушки развели оченно довольно; и стали с своим сынком себе жить да поживать и добра наживать, да бражку и медок попивать. И я там был, мёд-вино пил, только в рот не попало, а по усам текло.
Жил-был старик со старухою; у них был сын по имени Иван. Кормили они его, пока большой вырос, а потом и говорят:
– Ну, сынок, доселева мы тебя кормили, а нынче корми ты нас до самой смерти.
Отвечал им Иван:
– Когда кормили меня до возраста лет, то кормите и до уса́.
Выкормили его до уса и говорят:
– Ну, сынок, мы кормили тебя до уса́, теперь ты корми нас до самой смерти.
– Эх, батюшка, и ты, матушка, – отвечает сын, – когда кормили меня до уса́, то кормите и до бороды.
Нечего делать, кормили-поили его старики до бороды, а после и говорят:
– Ну, сынок, мы кормили тебя до бороды, нынче ты нас корми до самой смерти.
– А коли кормили до бороды, так кормите и до старости!
Тут старик не выдержал, пошёл к барину бить челом на сына.
Призывает господин Ивана:
– Что ж ты, дармоед, отца с матерью не кормишь?
– Да чем кормить-то? Разве воровать прикажете? Работа́ть я не учился, а теперь и учиться поздно.
– А по мне как знаешь, – говорит ему барин, – хоть воровством, да корми отца с матерью, чтоб на тебя жалоб не было!
Тем временем доложили барину, что баня готова, и пошёл он париться; а дело-то шло к вечеру. Вымылся барин, воротился назад и стал спрашивать:
– Эй, кто там есть? Подать босовики!
А Иван тут как тут, стащил ему сапоги с ног, подал босовики; сапоги тотчас под мышку и унёс домой.
– На, батюшка, – говорит отцу, – снимай свои лапти, обувай господские сапоги.
Наутро хватился барин – нет сапогов; послал за Иваном:
– Ты унёс мои сапоги?
– Знать не знаю, ведать не ведаю, а дело моё!
– Ах ты, плут, мошенник! Как же ты смел воровать?
– Да разве ты, барин, не
![Волшебные сказки Афанасьева [Литрес] - Александр Николаевич Афанасьев](https://cdn.my-library.info/books/368531/368531.jpg)